Микроэлектроника по-русски: кто выживет в игре на выбывание
Российская микроэлектроника вступает в этап жесткой консолидации. Выживут лишь компании с полным циклом, доступом к госзаказу и своей технологической нишей. Остальным придется бороться за ресурсы и место в цепочке импортонезависимости.
Рынок микроэлектроники в России переживает переломный момент. После 2022 года он оказался под давлением санкций, разрывов цепочек поставок и фактической блокировки доступа к ключевому оборудованию и материалам. Это обострило главный вопрос: кто сумеет сохранить и укрепить позиции, а кто сойдет с дистанции.
Для государства и бизнеса задача очевидна: без собственной производственной базы и полного цикла от материалов и оборудования до проектирования и упаковки чипов о технологической независимости говорить рано. Поэтому последние два года отрасль живет в режиме форсированного импортозамещения. Речь идет не о точечных инициативах, а о масштабной перестройке всей производственной архитектуры.
По оценкам Strategy Partners, в 2024 году российский рынок микроэлектроники вырос на 20% и достиг 370 млрд рублей, из которых около четверти пришлось на отечественную продукцию. В базовом сценарии к 2030-му объем может составить порядка 794 млрд рублей, а в оптимистичном превысить 1 трлн, при условии ввода новых мощностей и запуска серийного производства оборудования.
С точки зрения рынка, с множеством конкурентов и устойчивым спросом, отрасль все еще в стадии становления. Сегодня это скорее технологические «островки», которые государство и крупные холдинги пытаются соединить в единую экосистему. Консолидация сегодня здесь стала ключевым инструментом: профильные компании выкупают, объединяют в совместные предприятия, интегрируют компетенции, закрывая «узкие места» цепочек. Борьба идет не только за выживание, но и за место на будущем рынке, который сейчас практически создается с нуля.
Карта рынка
Российский рынок микроэлектроники сегодня формируется вокруг нескольких центров, которые не просто развивают собственные мощности, но и определяют архитектуру отрасли. Главный процесс — консолидация. Предприятия, компетенции и технологии объединяются в замкнутые производственные цепочки, чтобы ключевые этапы от материалов до готовых микросхем можно было выполнять внутри страны.
Группа компаний «Элемент» является одним из ключевых игроков рынка и последовательно наращивает вертикальную интеграцию. В состав входят более тридцати дизайн-центров и производственных предприятий, среди которых «Микрон», НИИМЭ, Воронежский завод полупроводниковых приборов и несколько профильных НИИ. За последние два года холдинг укрепил позиции за счет приобретений, включая контроль над робототехническим НПО «Андроидная техника» в июле 2025 года, а также активов в смежных сегментах, что позволяет постепенно выстраивать замкнутый производственный цикл.
Росатом через НПО «Критические информационные системы» (НПО КИС) формирует собственный контур микроэлектроники. В его активе акции компании Kraftway, одного из крупнейших российских производителей серверов, персональных компьютеров и встраиваемых систем. Корпорация также ведет переговоры о покупке НПЦ «Модуль», специализирующегося на проектировании микросхем и радиоэлектронных систем. Параллельно прорабатываются инициативы в области производства печатных плат и электронных компонентов. Стратегия Росатома нацелена на то, чтобы объединить вычислительную технику, системы хранения данных и сетевые решения с отечественной элементной базой, формируя замкнутую технологическую цепочку внутри страны.
НМ-Тех (структура ВЭБ.РФ) управляет активами завода «Ангстрем-Т» в Зеленограде. Предприятие располагает производственными линиями для выпуска микросхем по зрелым техпроцессам 130–90 нм, востребованным в телекоммуникационном оборудовании, промышленной автоматике и оборонных системах. Эти мощности стали базой для восстановления серийного производства полупроводников в России, которое в последние десятилетия практически не развивалось.
Свою нишу на рынке занимают и независимые игроки. GS Group через GS Nanotech развивает направление упаковки и тестирования микросхем, а также выполняет контрактное производство по заказам российских и зарубежных клиентов. Crocus Nanoelectronics специализируется на MRAM-памяти, сенсорах и полупроводниковых устройствах особого назначения. Западно-Сибирский научно-технический центр (ЗНТЦ) совместно с белорусским «Планаром» разработал фотолитограф с разрешением 350 нм. Хотя по мировым меркам это не передовой уровень, для России такой шаг стал значимым элементом в снижении зависимости от зарубежных поставщиков оборудования.
В отрасли постепенно выстраивается распределение ролей. Одни компании концентрируются на оборудовании (лазерах, литографах, установках для эпитаксии и легирования). Другие сосредоточены на материалах и компонентах, от сенсоров до полупроводниковых пластин. Третьи занимаются проектированием и сборкой чипов, четвертые отвечают за тестирование и упаковку. Постепенно эти сегменты связываются в единую производственную экосистему, где крупные холдинги становятся «якорями» для разработчиков и поставщиков.
При этом центры новой микроэлектроники не создаются с нуля. В них перетекают технологии и компетенции, которые еще недавно работали на импорт. Специалисты уходят из западных компаний, принося опыт проектирования и производства, возобновляются ранее замороженные линии, адаптированные под новые условия. Этот процесс напоминает сборку сложного конструктора: каждый элемент приходится подгонять, чтобы он стал частью общего механизма. Такой обмен опытом, знаниями и оборудованием дает шанс не только удержаться, но и заложить фундамент для будущего рынка, который сможет работать без критической зависимости от внешних поставок.
Ключевые сделки и поглощения последних лет
За 2024–2025 годы в российской микроэлектронике прошла серия сделок, которые не просто меняют расклад сил, но и закрывают самые уязвимые места технологической цепочки. В каждом случае речь шла не о расширении ради объема, а о точечных шагах, которые приближают к основной цели замкнуть полный производственный цикл внутри страны.
В августе 2025 года «Нанотроника», дочерняя структура ГК «Элемент», получила контроль над новосибирским предприятием «Оптические Технологии». Компания известна разработкой прототипа УФ-лазерной системы на 257 нм, способной заменить недоступные из-за санкций американские лазеры Coherent. По оценкам, сумма сделки могла достигать 1,5 млрд рублей. Этот шаг позволил закрыть один из ключевых дефицитов в источниках излучения для литографических установок.
Месяцем ранее, в июле 2025 года ГК «Элемент» через свою структуру «Корпорация роботов» также приобрела контрольный пакет НПО «Андроидная техника», разработчика и производителя робототехнических комплексов, применяемых в автоматизации промышленных линий, включая тестирование, упаковку и транспортировку компонентов. Интеграция таких систем в российские фабрики позволяет сократить зависимость от импортного промышленного оборудования и повысить автономность производства, а также ускоряет развертывание новых технологических мощностей.
В августе 2024 года структуры ГК Softline совместно с менеджментом предприятия выкупили у американской IPG Photonics контрольный пакет НТО «ИРЭ-Полюс», крупнейшего в России производителя волоконных лазеров. Сумма сделки составила около 4,5–4,7 млрд рублей. Весной 2025 года предприятие прошло ребрендинг и стало называться VPG LaserONE, сохранив производственную базу во Фрязино и усилив линейку продуктов. Сегодня здесь выпускают высокоточные лазерные системы, востребованные в промышленности, медицине и оборудовании для микроэлектроники, что фактически закрыло один из критичных импортных разрывов в технологической цепочке.

Росатом продолжает выстраивать собственный контур в микроэлектронике. В конце 2023 года корпорация через НПО «КИС» приобрела половину акций Kraftway, одного из крупнейших российских производителей серверов, персональных компьютеров и встраиваемых систем. Сделка дала возможность глубже интегрировать вычислительную технику с отечественной элементной базой и уже в 2024–2025 годах сопровождалась модернизацией производственных линий. Сейчас Росатом ведет переговоры о покупке НТЦ «Модуль», дизайн-центра с компетенциями в проектировании микросхем и сложной радиоэлектроники. Если сделка состоится, корпорация сможет заметно усилить позиции в разработке и интеграции готовых решений на базе российских чипов.
В мае 2024 года ГК «Элемент» увеличила свою долю в Новосибирском институте программных систем (НИПС) с менее чем 10% до 90%, выкупив пакет у Ростеха. НИПС специализируется на разработке MES- и ERP-систем для управления промышленными предприятиями. Интеграция этих решений в контур холдинга позволяет выстраивать сквозное цифровое управление производством от планирования и логистики до выпуска готовых микросхем, повышая прозрачность и эффективность работы фабрик.
Есть и решения, инициированные напрямую государством. В сентябре 2024 года Минпромторг ввел внешнее управление в АО «МЦСТ», разработчика процессоров «Эльбрус», и передал его НПЦ «Элвис», компании, известной по линейке мобильных чипов «Скиф». Формально это не рыночная сделка, а управленческая мера, призванная стабилизировать выполнение гособоронзаказа, сохранить архитектуру «Эльбрус» и обеспечить ее дальнейшее развитие в условиях ограниченного доступа к зарубежным производственным мощностям.
В совокупности эти сделки формируют основу замкнутого производственного контура. Лазеры и источники излучения обеспечивают «Оптические технологии» и VPG Laserone. Автоматизацию и роботизацию линий берет на себя НПО «Андроидная техника». За компьютерную технику и ее интеграцию с отечественной элементной базой отвечает Kraftway. Компетенции в проектировании микросхем усиливают НТЦ «Модуль» и связка МЦСТ–НПЦ «Элвис». Цифровое управление производством замыкает Новосибирский институт программных систем (НИПС).
За два года отрасль сделала шаг от набора разрозненных компетенций к системе, в которой ключевые звенья технологической цепочки находятся под контролем российских компаний.
Логика консолидации
В привычной рыночной модели компании бьются за заказы, оттачивают уникальные продукты, играют ценой и сервисом. Российская микроэлектроника идет другим путем. Здесь главным механизмом роста стала консолидация, объединение заводов, КБ, исследовательских центров и смежных производств в несколько крупных технологических «узлов».
Причина очевидна — отрасль работает в условиях хронического дефицита оборудования, компонентов и специалистов. В такой среде конкуренция за одни и те же ресурсы не ускоряет прогресс, а лишь дробит усилия. Когда проектировщики, производители материалов, разработчики ПО и сборочные площадки действуют как единая система, они закрывают технологические разрывы быстрее, деля между собой задачи по принципу «каждый делает свое, но в рамках общего плана».
Государство здесь не только арбитр, но и главный инвестор, заказчик и часто совладелец. Крупные сделки и проекты финансируются через госпрограммы и госкорпорации, а KPI завязаны на потребности оборонки, связи, энергетики и критической инфраструктуры. Такая модель гарантирует базовую загрузку производств и защиту от рыночных колебаний.
Консолидация стала частью стратегии импортонезависимости: почти каждая крупная сделка последних лет устраняет конкретную уязвимость, начиная с источников излучения и промышленной робототехники до систем проектирования процессоров и производства печатных плат. Задача при этом остается неизменной — выстроить внутри страны полный технологический цикл и максимально сократить зависимость от зарубежных поставщиков, особенно из стран, поддерживающих санкции.
Пока совсем не до передовых технологий. Ставка сделана на зрелые нормы 90–180 нм. Эти линии можно оснастить российским оборудованием с высокой степенью локализации, а выпускаемые по ним чипы востребованы в военной, промышленной и телеком-инфраструктуре, где надежность важнее миниатюризации.
Есть и еще один эффект, о котором говорят в кулуарах: вместе с технологиями и производственными мощностями в крупные центры «перетекают» кадры отрасли от инженеров до управленцев. Это не всегда выглядит как добровольный выбор, но в итоге усиливает компетенции и упрощает коммуникацию внутри отрасли.
Кто может остаться на рынке
В ближайшие годы российская микроэлектроника будет развиваться по негласному правилу: остаются те, кто встроен в систему. Консолидация отрасли и масштабные госпрограммы уже сейчас формируют замкнутый клуб игроков, способных производить и развиваться без критической зависимости от зарубежных технологий. Именно поэтому в российской микроэлектронике «остаться на рынке» сегодня почти синоним «встроиться в кооперацию». В одиночку выжить можно, но далеко уйти — вряд ли.
Наиболее прочные позиции у компаний, контролирующих весь или почти весь цикл от проектирования и закупки материалов до выпуска готового изделия. Это, например, ГК «Элемент» с собственными фабриками, проектными центрами и сборочными линиями; НМ-Тех, располагающий оборудованием для зрелых техпроцессов; и Росатом, объединяющий проектирование, разработку оборудования, вычислительную технику и системную интеграцию. Такие структуры могут планировать развитие самостоятельно, минимизируя внешние риски.
Уверенно чувствуют себя и те, чьи мощности загружены государственными заказами в оборонной, телекоммуникационной или энергетической сферах. Для них колебания рынка не столь опасны: долгосрочные контракты обеспечивают стабильную загрузку, а модернизация часто финансируется за счет целевых госинвестиций.
Свою нишу сохранят и технологические лидеры в узких сегментах, где компетенции сложно или долго воспроизвести. Это производители лазерных систем («Оптические Технологии», VPG Laserone), метрологического оборудования, уникальных сенсоров и материалов (Crocus Nanoelectronics). Их разработки становятся незаменимыми элементами в производственной цепочке, а крупные интеграторы заинтересованы в их поддержке и развитии.

Для небольших независимых компаний путь к выживанию лежит через интеграцию в цепочки крупных холдингов или освоение редких технологических ниш. Конкурировать в одиночку по полному циклу практически нереально, но обладая уникальным продуктом или компетенцией, можно стать ценным поставщиком в национальной экосистеме. Остальным придется искать свое место в общей кооперации либо уходить в другие сегменты.
Тонкие места отрасли
Даже громкие инвестиции и объединение ключевых активов не снимают главного вопроса: сможет ли российская микроэлектроника перейти из разряда амбициозных проектов в реальную индустрию с устойчивым выпуском продукции? Сегодня отрасль похожа на мост, который уже начали строить с обеих сторон, но посередине остаются пролеты, требующие тонкой и кропотливой работы.
Первым из них можно назвать зависимость от импортных материалов и комплектующих. Фоторезисты, высокочистые газы, химические реагенты, оптические компоненты — это лишь небольшая часть критически важных позиций, которые мы пока вынуждены закупать за рубежом. Создание отечественных аналогов сегодня задача не только технологов и химиков, но и экономистов, ведь серийное производство должно быть не просто возможным, а рентабельным. Пока же любое нарушение поставок может остановить целые производственные линии.
Но даже при условии, что «железо» и материалы окажутся под контролем, без людей, способных их использовать, технологический рывок невозможен. Кадровый провал, начавшийся в 1990-х, до сих пор не преодолен: значительная часть специалистов сегодня предпенсионного возраста, а приток молодых инженеров и разработчиков идет слишком медленно. Подготовка смены требует не месяцы, а годы, и каждое промедление будет сказываться на темпах освоения новых мощностей.
Даже готовые технологии сталкиваются с еще одной проблемой, переходом от опытных образцов к серийному выпуску. Многие разработки пока существуют в виде прототипов и малых партий, а масштабирование требует дополнительных инвестиций, времени и гарантированного рынка сбыта. Внутренний рынок ограничен, а значит, без стабильных заказов от государства и госкорпораций экономика таких проектов может так и не выйти на самоокупаемость.
К этому добавляется и конкуренция за ресурсы внутри самой системы. Разные ведомства и госкомпании, формально работающие на общую цель, на практике нередко соревнуются за одни и те же кадры, оборудование и даже финансирование. Это приводит к дублированию работ, сдвигам сроков и распылению усилий.
Все эти факторы образуют другую сторону микроэлектронной гонки, менее заметную, чем закупка литографов или строительство новых заводов, но не менее важную. И если с этими проблемами не справиться, отрасль рискует надолго застрять в состоянии вечного старта, так и не выйдя на устойчивое движение вперед.
Окно возможностей и вызовы отрасли
К 2030 году у российской микроэлектроники есть шанс перестать быть набором разрозненных компетенций и превратиться в отрасль с почти полным производственным циклом. При условии, что текущие проекты доведут до конца, а новое оборудование запустят без затяжек, удастся замкнуть внутри страны до 70–80% производственной цепочки.
Ближайшие годы почти весь выпуск будет уходить на внутренний рынок. Приоритетом остаются оборонка, телеком, энергетика и промышленная автоматизация. Экспорт встанет на повестку позже, после 2030-го, когда появятся конкурентоспособные по цене и надежности зрелые техпроцессы и специализированные решения: сенсоры, микроконтроллеры, СВЧ-компоненты. Шанс занять нишу дадут и уникальные продукты вроде MRAM или специализированных лазеров.
Сегодня конкуренция между российскими игроками минимальна. Отрасли просто не до этого, она работает в логике кооперации и распределения задач. Но как только внутренний спрос будет насыщен и ключевые госпрограммы завершатся, начнется борьба за коммерческие заказы, в первую очередь в массовом и потребительском сегменте.
Эксперты оценивают окно возможностей в 5-7 лет. За это время нужно ликвидировать технологические разрывы, наладить серийный выпуск с приемлемой себестоимостью, выстроить устойчивые цепочки поставок и подготовить кадры. Если это удастся, рынок сможет расти и постепенно снижать критическую зависимость от импорта. Если нет, то останется в роли догоняющего, воспроизводя сценарий «копировать и догонять».
Долгосрочное присутствие в такой системе означает не просто выживание. Речь идет о способности встроиться в экосистему, формирующуюся вокруг государственных программ, крупных интеграторов и длинных кооперационных цепочек. Сегодняшняя карта сил напоминает концентрические круги: в центре государство как заказчик, инвестор и координатор; далее крупные производственные площадки вроде «Микрона» и «Ангстрем-Т», проектные бюро, научные центры, производители оборудования и материалов; на внешнем контуре компании, работающие в узких сегментах, от литографии до упаковки чипов.
Дальнейший путь может быть различным. В оптимистичном сценарии отрасль выстраивает замкнутую цепочку поставок, замещает критичный импорт и выходит на внешние рынки. В пессимистичном действует разрозненно, конкурирует за ресурсы и не успевает закрывать технологические разрывы, что закрепляет зависимость от внешних поставщиков. В обоих случаях выживание и рост зависят от готовности компаний объединять усилия, сохранять технологическую специализацию и участвовать в совместных проектах с лидерами рынка.
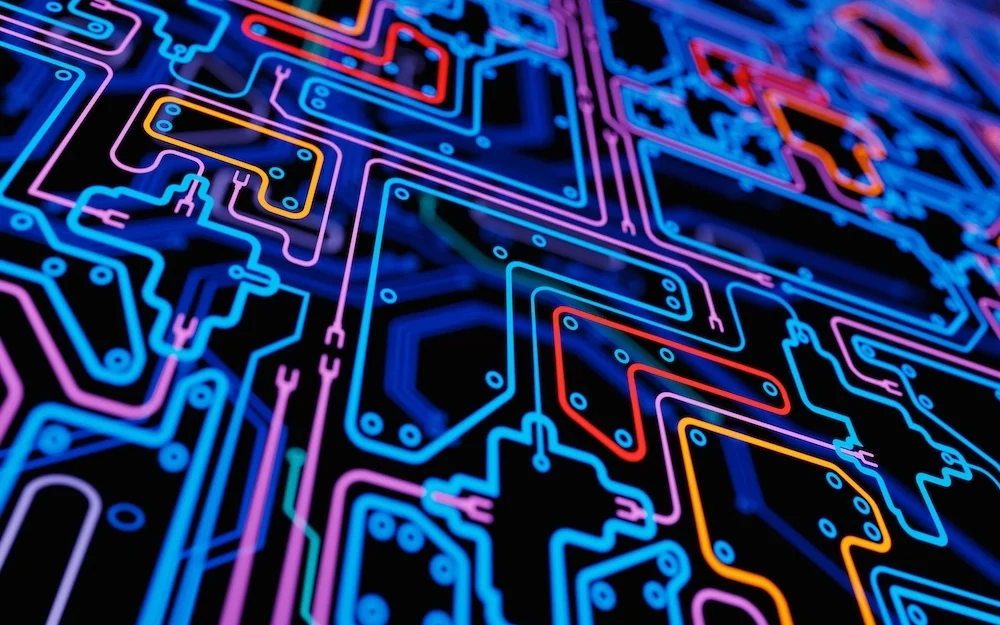








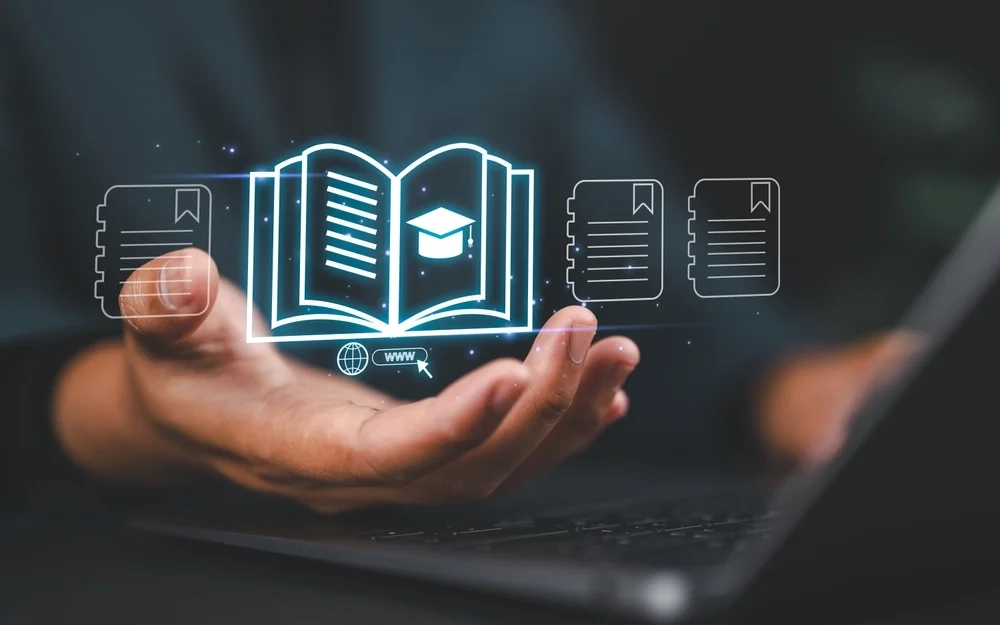




Написать комментарий