- Культура
- A
Русские театры за рубежом: миссия выполнима
«Три сестры» без слов, мир творцов из бумаги и тряпок, Шукшин, скрещенный с Феллини, – и много еще чего показали на минувшей неделе русские театры в Москве на фестивале Мир Русского театра . На него не приехал ни один артист, в российскую столицу не пришла ни одна фура с декорацией: показы театральной продукции прошли в режиме онлайн, потому что все театры-участники работают в разных странах.
Прежде чем рассказывать о спектаклях, надо понимать, что это театры не совсем театры в привычном для нас смысле слова. То есть, с одной стороны, там все как в обычных: актеры, декорации, спектакли, премьеры. А с другой — у них нет финансовой поддержки той страны или города, где они существуют. У большинства нет крыши над головой, спектакли они делают на свои кровные, а если повезет, на спонсорские (мир не без добрых людей бывает). Они даже сами зарабатывают, правда, немного, но не жалуются: никто не неволил любить театр, их выбор. А они, в разное время и по разным причинам оказавшись за рубежом, не могут без театра. Русского. Так и сложился Мир русского театра, который в шестой раз со своей командой созвал на фестиваль главред журнала «Театрал» Валерий Яков, придумавший это мероприятие.
До пандемии слет энтузиастов (профессионалов и любителей) проходил в одной из стран-участниц, но после «чумы XXI века» они теперь собираются пока в режиме онлайн. Не беда, главное, есть что показать: премьеры выходят. Есть что обсудить: проблемы, опыт творческий и экономический, послушать наконец экспертов — вниманием местных критиков эти театры не избалованы. Тем более в нынешних условиях, когда русская культура и ее институции в европейских странах под запретом.
Итак, что показали на этот раз 10 русских театров? Чем порадовали? Разнообразием классики, отечественной и зарубежной — Чехов, Островский, Шукшин, Андерсен, Шмит; современной драматургией — Михайлов, Диттрич, Дымшаков. Разнообразием форм — они же нужны, как настаивал герой чеховской «Чайки». Но проживание в другой стране дает иной взгляд на то, о чем писали русские писатели.
Полина Ребель, хореограф по образованию, собрала в 2021 году компанию «Theatre de mouvement GLAZA» и поставила ни много ни мало «Три сестры». Она говорит, что, оказавшись за рубежом, иначе посмотрела на чеховскую пьесу.
— В эмигрантской среде «Три сестры» открылись для меня совершенно с другой стороны. Мне кажется, я поняла причину, по какой они не могут взять чемоданы и наконец-то уехать в Москву. На тот момент было два года, как я переехала во Францию, у меня было примерно такое же ощущение, как и у сестер Прозоровых: когда ты переезжаешь в другую страну, у тебя нет языка, того круга общения, который был в Москве, и, конечно же, первая мысль: «Я хочу обратно, у меня здесь нет того, что было там». Тебя прибивает, как каменным мешком, и ничего невозможно сделать. Для меня открылось, что сестры тоже не могут оставить ту жизнь здесь, которая вроде как начала получаться, и шагнуть в неизвестное.
«Три сестры» — спектакль без слов, пластическая драма, где чеховские герои разговаривают языком тела. Хореография или пластика Полины Ребель своеобразная, строится на мелких резких движениях, передающих нервозное состояние героев. Прямо скажем, неожиданное прочтение, а получилось очень здорово. Тем, кто хочет в очередной раз услышать текст Чехова, может отдохнуть, артистам удалось передать даже не слова, а то, что стоит за словами. При этом танцуют артисты драматические, а не балетные.
Сейчас в репертуаре «Theatre de mouvement GLAZA» — три постановки.
— Три за эти годы с московской точки зрения — слишком мало и долго. А для нас не долго, а трудно, — говорит Полина. — Потому что найти поддержку финансовую — не нашли, все на личных вложениях.
Русским театрам за рубежом всегда было непросто, а с началом СВО стало невыносимо. Так, в Копенгагене Русско-датский театр «Диалог» местные власти буквально выгнали из Русского культурного центра, предварительно закрыв его. Рассказывает актриса Татьяна Дербенёва — когда-то она работала в «Ленкоме» у Марка Захарова:
— Надо сказать, что руку помощи нам протянул директор центра местных профсоюзов, но когда работники центра услышали, что мы (а нас много — взрослые артисты, детская студия) говорим по-русски… Нет, нам в помещении официально не отказывали, но стало трудно заказывать время для репетиций. Кончилось тем, что я поблагодарила председателя — он же к нам хорошо отнесся в отличие от своих сотрудников, — и мы ушли.
«Диалог» показал на фестивале спектакль «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века», поставленный по книге питерского математика, писателя, режиссера Олега Михайлова. Она написана от имени Малыша, а героиня — Фрекен Бок — выписана без особых симпатий. Но Татьяне Дербенёвой за час сценического действия удалось поменять отношения зрителя к своей героине. Актриса замечательно сыграла, по сути, судьбу женщины без возраста: ее одиночество и борьбу с ним, свою прошлую жизнь со всеми ее скелетами в шкафу, болью, раскаянием. А заодно достала и скелеты государства, что называет себя демократическим, но методами пользуется далекими от демократии. Жизнь человека на фоне времени на крохотном пятачке сцены протекала удивительно спокойно, как будто всё, что она пережила, было буднично и повседневно, как будто речь шла о походе в магазин. От одного этого становилось страшновато.
В Нью-Йорке не первый десяток лет работает театр режиссера Славы Степнова, который в своем спектакле соединил Шукшина и… Феллини. Шесть рассказов Василия Макаровича, глубоко русского писателя, знавшего жизнь простого человека как никто, режиссер как бы вставил в итальянскую рамку. «Рамкой» служили итальянские песенки, итальянский язык, связывающий между собой русские истории, кстати, не так часто эксплуатируемые театром: «Солнце, старик и девушка», «Материнское сердце», «Вянет, пропадает», «Хорошая игра» и «Одни».
Шукшинскую историю разыгрывают четыре артиста, которые меняются ролями. И постепенно перестает удивлять итальянская речь, и тебе кажется, что она даже подходит к русским мужикам — шорникам или без определенного рода занятий. В этом заслуга, безусловно, и режиссера Степнова, и актеров, показавших высокий класс игры.
Русской речи нет и в спектакле «Творения» Центра интернационального театра из Флоренции, который возглавляет Ольга Мельник. Перед нами был предметный театр, который исследовал невидимый процесс художественного творчества. Для сложнейшей задачи использованы бумага и ткань. Тряпочки в руках трех артистов, и, что особенно важно, без всяких заготовок, буквально из ничего рождают нечто. И это нечто, назовем его плодом фантазии художника, начинает жить своей жизнью, мучая своего создателя, доводя его до края жизни.
— Мы давно существуем, — рассказывает Ольга Мельник, — и никогда ни у кого ничего не просили. А зачем? Сами выживали. У нас недавно появилось свое помещение, оно маленькое, но здесь зрители могут и спектакли смотреть, и после остаться поужинать.
Два новых игрока на поле русского театра приехали из стран, славных своими пляжами и туристическими маршрутами, но никак не театром — из Таиланда и Кипра. Туда обычно отправляются холить тело, баловать живот, но не терзать и без того усталую душу. Русские киприоты заявили детский спектакль, кстати, единственный на фестивале — «Дюймовочка». Сказка порадовала претензией на большой стиль, высоким качеством исполнения костюмов, декораций, где все по-взрослому, и искренней игрой юных артистов.
Таиланд представил спектакль «Оскар и Розовая Дама» по пьесе Эрика Эммануэля Шмитта, имеющая изумительные образцы постановок у нас и по миру. Достаточно вспомнить Алису Фрейндлих в роли мальчика Оскара, который в клинике лечится от рака и пишет письма Богу. В постановке Татьяны Квитко мальчика играет взрослый артист Николай Молочков, много лет служивший в театре Александра Калягина, а вот теперь продвигает русский театр в жаркой стране. Играл он изумительно, тонко, на легком нерве. Он мог бы один почти два часа держать внимание зрителя, но режиссер придала ему в компанию мягких и хорошо выполненных кукол, которые, оказавшись в руках медперсонала, становились маленькими пациентами клиники. И это были не профессиональные актеры (откуда они в далекой стране в таком количестве?), а любители, с которыми хорошо поработал режиссер. Во всяком случае, у той из них, что играла бабушку Розу, получился правдивый образ.
Лондон представил современную пьесу «Сватовство» Татьяны Диттрич, знатока викторианской эпохи, и спектакль непривычно для театра за рубежом оказался многонаселенным. Сербия зашла с жесткой уральской драматургией, Швейцария — с пьесой Теннесси Уильямса на четырех непрофессиональных актрис, а жаркая Испания — со «Снегурочкой» Островского, где играли подростки.
Подводя итоги фестиваля, Валерий Яков и эксперты отметили заметно выросший уровень работ — есть с чем сравнить, все-таки шестой фестиваль. Но на данный момент это не самое главное. Главным же остается тот факт, справедливо отмеченный драматургом и режиссером Андреем Максимовым, что в нынешней политической ситуации русские театры за рубежом, которые ставят спектакли по русской классике, на русском языке, становятся миссионерами, едва ли не единственными маленькими островками русской культуры. И их надо поддерживать. И не частным образом, а на государственном уровне.

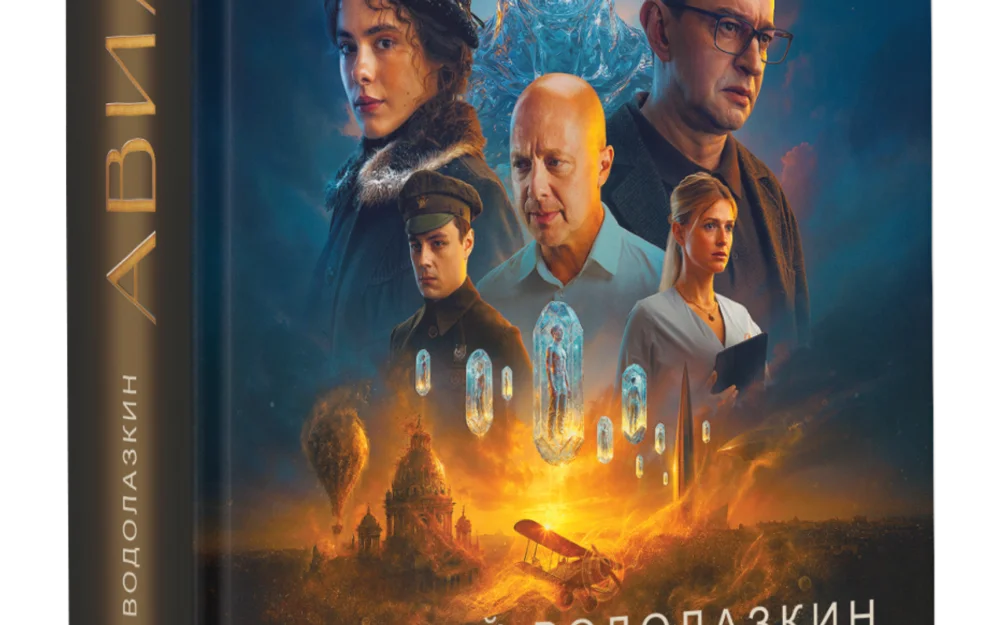







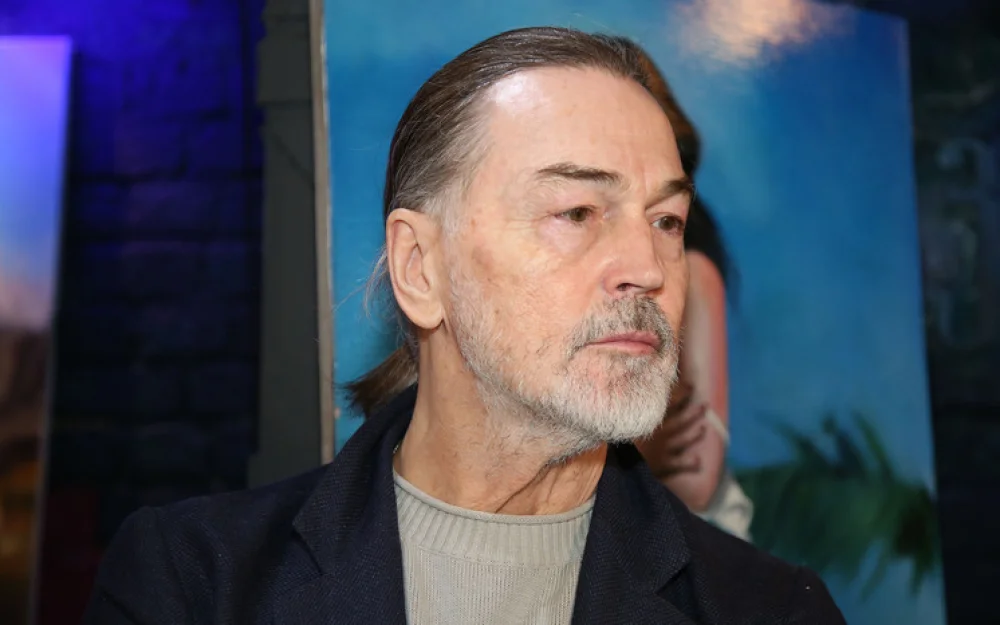


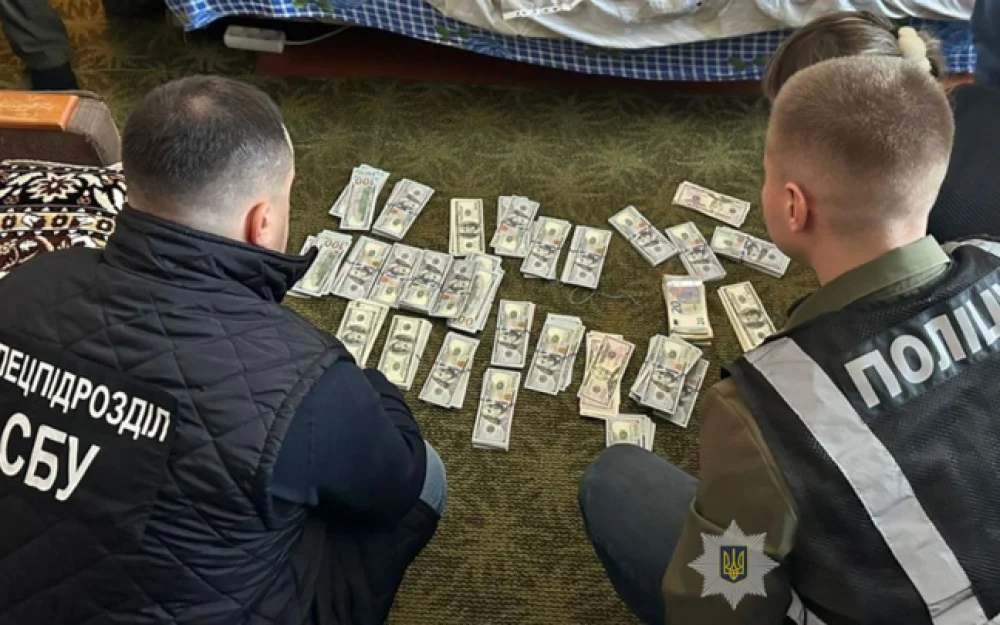
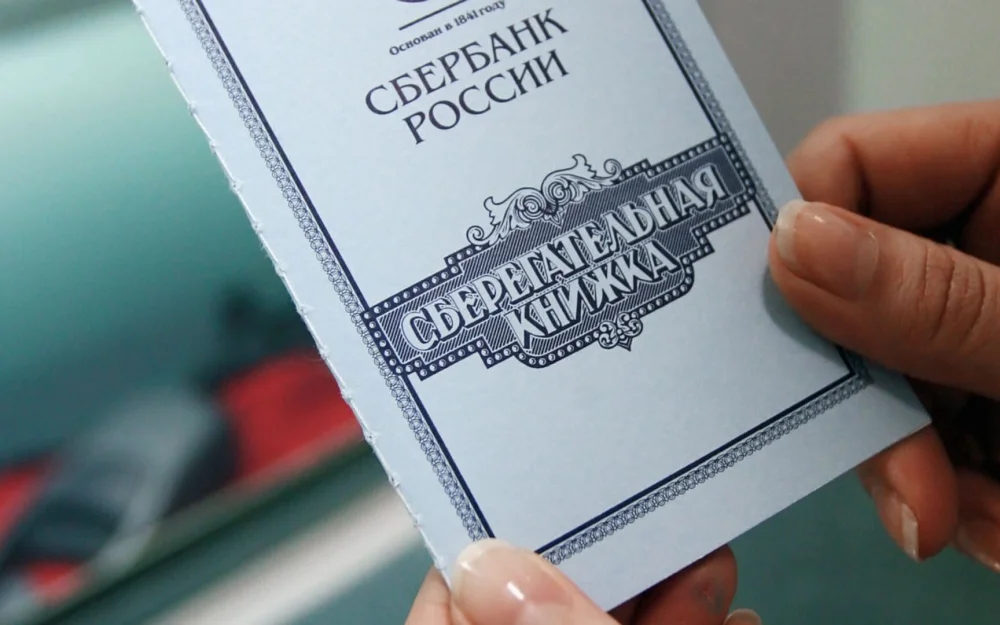
Написать комментарий