Шансы есть: сын пропавшей на пике Победы Натальи Наговициной не теряет надежды
Два дня назад прекратились работы по спасению с пика Победы сорвавшейся с высоты и сломавшей ногу 47-летней альпинистки Наталья Наговициной. Несмотря на то что ее сын тщетно взывает о помощи, шансов на то, что Наталья все еще жива, не осталось.
Вдобавок следом за ней погибли ещё двое альпинистов из Ирана.
Горы забирают свою дань. С того же пика Победы последний раз удавалось эвакуировать живых пострадавших только в 1955-м и в 1959 годах.
«Почему Наталью продолжали пытаться спасти, несмотря на очень низкие шансы? Мне кажется, что дело здесь не только в страховке, вероятно, ещё действует советский менталитет коллективной помощи. Мы стараемся спасать до последнего… И в этом случае надеялись на лучшее», — говорит альпинист Алексей Овчинников, старший координатор Альпинистского общественного спасательного отряда.
В 1955-м группа восходивших на высоте 7000 метров на пике Победы попала в ураган. Из 12 человек спасли одного. Четыре года спустя удалось помочь трем узбекским альпинистам, попавшим в метель. И это все.
На данный момент общее количество погибших здесь превышает сто человек. Пик Победы считается наиболее сложным среди «семитысячников». Среди туристов есть поговорка: если на пике Победы за год никто не погиб, значит, никто и не поднялся.
А вообще, здесь остается каждый 13-й.
Но даже это не так много, если сравнить с самыми опасными «восьмитысячниками» мира: Джамалунгма (Эверест), Аннапурна, Канчеджанга, Чогори (К2) — все в Гималаях.
С Эвереста ежегодно не возвращается от 5 до 10 человек, только в этом году тут погибли четверо скалолазов из разных стран, россиян среди них нет.
Относительно безопасный маршрут всего один. Вдоль него и пробираются наверх смельчаки, проходя мимо сотен мертвых тел в разноцветных костюмах, навсегда закованных в глыбы льда. «Долина радуги» называют это место.
Есть среди оставшихся здесь навечно и наши альпинисты.
«Когда ещё побываешь в Гималаях?»
Вот уже 28 лет на Эвересте покоятся тела наших соотечественников трех алтайских альпинистов: Александра Торощина, Николая Шевченко и Ивана Плотникова.
Четвертый и единственный выживший из этой группы Владимир Тумялис. Свое восхождение в 1997 году они посвятили 60-летию Алтайского края.
Сперва подниматься вверх задумали девять человек, среди которых были и профессиональные спасатели, и врач. Но деньги в итоге нашлись только у четверых. 36-летний Плотников годом ранее был назван Федерацией альпинизма лучшим альпинистом года в России. Он уже покорил три гималайских восьмитысячника: Чо-Ойю (8 201), Дхаулагири (8 167), Макалу (8 463).
В интервью журналистам накануне своего отъезда в Гималаи спортсмен рассказывал, как взошел на Чо-Ойю и что чувствовал при этом. Кстати, тогда в их группе тоже был погибший.
«Да, при спуске в провал наш товарищ (он был в команде врачом) сорвал камень, который ударил его по голове в незащищенное место. И он погиб. Трагедия… Хотя, в принципе, мы всегда готовы к таким трагическим случайностям и даже нелепостям. Ну, когда еще представится такой случай – побывать в Гималаях?» — объяснял он свою мотивацию.
53-летний Николай Шевченко носил почетное звание «Снежный барс» — его дают только тем, кто покорил все «семитысячники» СССР.
В его послужном списке были пики Коммунизма, Ленина, Корженевской, Хан-Тенгри, Революции.
Мастер спорта по горному альпинизму Александр Торощин также взошел на все «семитысячники». Сам он работал в МЧС. До этого участвовал в ликвидации последствий землетрясения на Сахалине в 1995 году.
Все спортсмены перед восхождением находились в отличной физической форме. Поэтому рискнули идти вверх налегке и без кислородных баллонов. Это считается более сложным, но и более дерзким способом дойти до вершины. Шли быстро. Времени на акклиматизацию не оставалось.
Весна в тот год в Гималаях выдалась настолько теплая, что растаяли вековые снега. Мужчин ждали голые скалы. На высоте 8 600 метров Александр Торощин принял решение повернуть назад. Но вниз он так и не спустился. Крик Торощина услышали индонезийские альпинисты, находившиеся на высоте 8300 метров. Выйдя наружу, они увидели разбившегося человека.
Николай и Иван продолжали движение вперед. Они смогли дойти до пика, за их триумфом наблюдали в зрительную трубу, однако спуск вниз оказался роковым. Мужчины попали в сильный штормовой ветер и потерялись в тумане.
А Владимир Тумялис, чемпион России в ледово-снежном классе, в ночь перед восхождением с 6 на 7 мая сжег себе глаза из-за щели между защитными очками и кислородной маской. Идти в таком состоянии наверх он не решился. И только поэтому выжил.
Тела оставшихся спортсменов так и остались не найденными на Эвересте. В их честь в Барнауле в сквере «Обь» поставили памятник — «Альпинистам Алтая — покровителям Эвереста».
Кемеровский альпинист Николай Кожемяко, взошедший на Эверест в 2001 году, сказал о том смертоносном восхождении следующее: «Там выше 8500 метров, выходишь на достаточно простой, но скользкий гребень - скальную плиту. Любое неосторожное движение - и в пропасть. Страховка невозможна - один потянет другого. Все бросают верёвки и идут сами по себе. Если ты поскользнулся — такая твоя судьба».
Зона смерти
Одна вершина Эвереста находится в Непале, другая в Китае. Альпинисты могут совершать восхождения и спуски с высоты 8000 метров только в течение примерно 15 дней, когда стихает шквалистый ветер. В так называемой зоне смерти, где дышать без специального оборудования зачастую невозможно, его скорость зачастую превышает 100 км в час.
По данным на декабрь 2024 года, Эверест покорили 7120 альпинистов. Остались навеки лежать на его склонах порядка 300. В вечных снегах их тела сохранились как нетленные.
Покоряют Эверест не самые бедные люди, так как стоимость такого подъема обойдется больше чем в 100 тысяч долларов. Сюда же включено официальное разрешение на восхождение от правительства Непала. Но, даже если человек погиб, шансы, что его труп спустят вниз, минимальны.
Мумии альпинистов становятся своеобразными указателями для тех, кто ещё только идёт вперед. Да, возможно, это цинично, но это жизнь. И абсолютно все понимают, если с ними что-то случится, то спасать их не станут, не станут даже снимать труп с горы, это слишком дорого и рискованно для самих спасателей.
Только единицы мертвых тел на Эвересте опознаны. Большинство трупов безымянны, и можно только предположить, кто это может быть. Например, «спящая красавица» в фиолетовой куртке была, Франсис Арсентьев, первая американка, покорившая Эверест без кислородного баллона. В 1998 году она поднялась на самый пик с мужем-россиянином Сергеем Арсентьевым и погибла уже во время спуска. Сергей пошел ее искать и тоже пропал без вести.
«Зеленые ботинки», вероятно, индийский альпинист Цеванг Палджор, совершавший восхождение в очень тяжелом в этом смысле 1996 году. Тогда погибло 15 человек.
Он был в обуви зелёного цвета. «Зеленые ботинки» — хороший ориентир для поднимающихся на пик, он показывает высоту ровно 8500. Только в 2014 году китайские спортсмены завалили его труп камнями, оставив ботинки, как указатель.
Кажется, что особым цинизмом отличается история британского учителя математики Дэвида Шарпа. Тот дважды в одиночку пытался покорить Эверест. На третий раз у него отказало кислородное оборудование. Мимо погибающего человека прошли десятки других людей, группа журналистов даже взяла интервью у умирающего, но никто не стал ему помогать. Только спустя год тело Шерпа по просьбе его родных немного сдвинули с оживленной тропы.
«Удивительно, но у большинства альпинистов, погибших на вершине Эвереста, счастливые лица», — рассказывает Олег Савченко, волгоградский бизнесмен и экстремал, который в 2017 году первым в мире специально поднялся на Эверест, чтобы захоронить хотя бы несколько человек, покоящихся здесь. Ему и его товарищу Александру Сидякину удалось накрыть специальной вечной тканью и скрепить крепежами тела двух человек. Двух из трех сотен.
Интервью у гибнущего
В горах нет места для нравственности и этики. Каждому дошедшему до 7000 метров на Эвересте говорят повернуть назад. У всех есть выбор.
Потому что выше силы останутся только на себя. Если человек не сможет идти, он обречен.
Бессмысленно помогать, иначе вместо одного будет два трупа. На этом фоне не кажется такой уж безжалостной ситуация с Дэвидом Шарпом. В конце концов, никто не тащил его насильно на «крышу мира».
Семьи, даже имея финансовые средства, не могут потом забрать тела своих близких с того же Эвереста. Частные компании отказываются им помочь. Для спуска только одной мумии требуется 12 человек и 4 баллона с кислородом. Один баллон обойдется в более чем в 400 долларов. Следовательно, лишь на обеспечение кислородом нужно 16 тысяч долларов. А всего операция по извлечению тела обойдется практически как восхождение — 70-100 тысяч долларов.
Но речь ещё идёт и о достаточной квалификации спасателей. Это уровень государства.
Впервые о том, чтобы снимать трупы с Эвереста, правительство Непала задумалось только в 2019 году. Тогда же были извлечены первые пять тел из «зоны смерти» на самом верху.
Один скелет и 11 тонн мусора были вывезены на меньшую высоту после 54-дневной операции. Власти заявили, что похоронят тела, если никто не придет за ними через три месяца после опознания, независимо от того, принадлежат ли они иностранцу или непальцу-шерпу, проводнику, который помогает альпинистам в горах. Смерти последних вообще никто не считает.
«Непал получил дурную славу из-за мусора и трупов, которые серьезно заполонили Гималаи», - объяснил журналистам майор Адитья Карки, который руководил процессом очистки горы.
Опознали по авиационным билетам
Но и наш российский Эльбрус тоже опасен, особенно для новичков. Смертельных случаев здесь намного меньше, зато рядовые спасения в день по нескольку раз.
Ежедневно вытаскивают по 2-3 человека. Из примерно 300 тех, кто пытается на него взойти. Эльбрусский высокогорный спасательный отряд, расположенный у подножья, выходит на поиски каждый день.
Регулярные спасения оправданны экономически: хорошо, что вверх поднимается много любителей, туризм и регулярные спасения обеспечивает доходы и налоги для Кабардино-Балкарии.
Но так было далеко не всегда. В апреле 1987-го на Эльбрусе при невыясненных обстоятельствах пропала группа альпинистов. Группа Ленинского турклуба Москвы в составе пяти человек под руководством Виктора Лыкова стартовала у подножья в начале апреля 1987-го. Сам Виктор Лыков, Иван Караваев, Анатолий Илюхин, Валентина Лапина и Елена Базыкина.
Через ледопад Балкбашт скалолазы запланировали подняться на высоту 5642 метра — считалось, что для них это будет разминка перед летним туристическим сезоном.
Несмотря на то что туристов предупреждали об ухудшении погоды, маршрут, один из самых сложных на Эльбрусе, они не сменили.
И на следующий день уже не вышли на связь. Экстремалов тщетно проискали около недели, но все бесполезно.
«Проходили все плато. Разбили на участки и каждую точку прощупали. Проверили, но ничего не нашли», — вспоминала знакомая пропавших туристов Галина Матекина.
Лишь спустя почти тридцать лет стало известно, что произошло по крайней мере с одной из женщин группы. Когда владимирские альпинисты отправились на пик Эльбруса по этому же маршруту, на восьмой день перехода, 23 августа, на одном из отрезков северного склона Эльбруса им пришлось преодолеть ледники, вдруг увидели что-то синее. Это была куртка, а в ней человеческие останки. «Подходить ближе не стали, сразу сообщили спасателям», — рассказывал СМИ руководитель группы Валерий Мельников.
Погибшей оказалась Елена Базыкина, при ней были обратные авиабилеты, позволившие ее идентифицировать, и запас денег. В целлофановом пакете все сохранилось как новенькое.
Останки выдалбливали изо льда три дня. Экспертиза показала, что девушка погибла от множественных травм, что характерно для попадания в лавину. Остальных членов группы так и не отыскали.
Елену Базыкину похоронили вместе с родителями в городе Новая Ладога Ленинградской области.
Несколько строчек в газете
Трагическая история Натальи Наговициной стала настолько известной лишь потому, что ее очень долго и тщетно пытались эвакуировать вниз. А ещё из-за гибели ее мужа, который остался здесь же, в горах Тянь-Шаня, четыре года назад. Как вспоминают, Наталья до последнего отказывалась покинуть умирающего супруга.
На самом деле спортсменов разной степени подготовки погибает в горах гораздо больше, но они в лучшем случае удостаиваются всего лишь нескольких строчек в местных газетах.
Например, пока спасали Наговицину, буквально на днях, в конце августа, в Приэльбрусье погибли еще двое альпинистов из Перми — 35-летняя Елена Ситникова и 38-летний Артём Хохлов, попытавшиеся покорить пик Виа-тау. Оба также сорвались вниз.
На своей страничке в соцсетях Артем написал, что альпинизмом занялся недавно:
«На первой же трассе упал с высоты 5-6 метров на камни, знатно так себе повредил обе ноги и занял аж третье место! Кто знает вообще, как я с такой травмой лазал по скалам?»
Кто-то скажет, что сам виноват, никто не тянул его в горы. Тем не менее ходят, рискуя собой. Что ими движет?
«В Эвересте на высоте 7000 у каждого восходящего традиционно спрашивают, зачем вы идете наверх, этот вопрос задавали и первым покорителям «крыши мира». И все отвечают одинаково: потому что он есть. Так и про другие горы. Потому что они есть», — говорит Олег Савченко.
Был ли шанс у Натальи Наговициной? Профессионалы говорят, что первую неделю точно был, даже с такими травмами и на такой высоте. Однако в Киргизии не нашлось такого масштаба спасательной индустрии, как в России. Именно поэтому за пострадавшей послали не совсем подходящий для этих целей тяжелый вертолет, который попал в воздушный поток. Кто знает, что чувствовала в этот момент женщина, понимая, что помощь так близка, но невозможна…
На данный момент снять с пика Победы (7439 метров) труп Наговициной не представляется возможным. Будут дожидаться весны.
Пока же МЧС Киргизии признали альпинистку без вести пропавшей, так как констатировать ее жизнь или смерть никто не может.










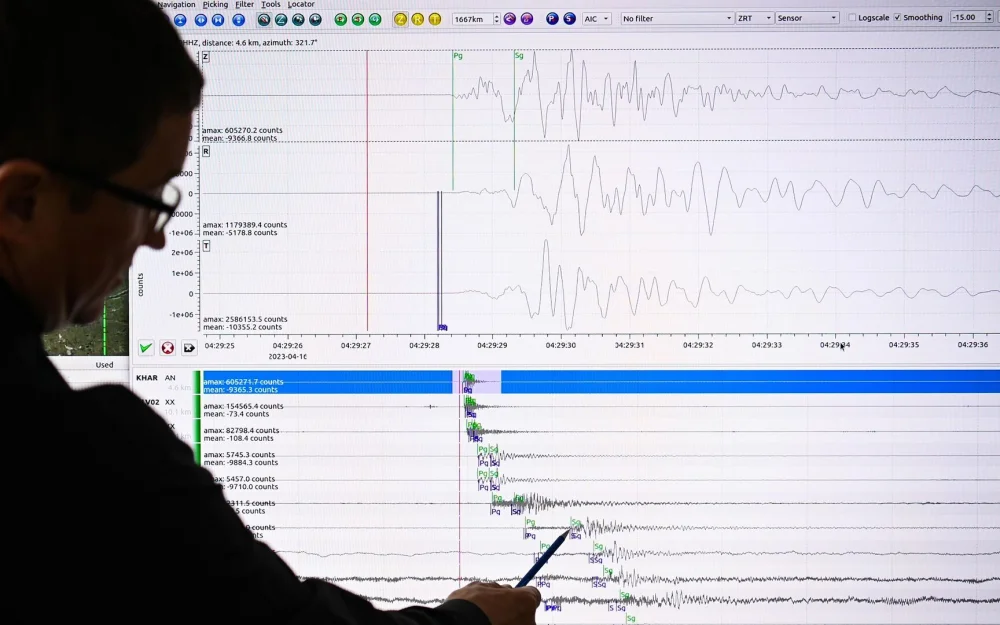



Написать комментарий