- Культура
- A
Звезда советского кино Тамара Акулова нашла призвание в воспитании будущих актеров
На фестивале показали две картины с ее участием — «Балладу о доблестном рыцаре Айвенго» Сергея Тарасова, где она сыграла леди Ровену, и «Каждый мечтает о собаке» Ольги Беляевой, где у нее роль Нины Романовны.
Псков не стал исключением. К любимой актрисе не раз подходили с вопросом: «Это же вы снимались в «Экипаже»?», имея в виду роль Александры Яковлевой в картине Александра Митты. Тамара Акулова рассказала, как она реагирует на подобные недоразумения.
— Кто выбрал для показа именно «Айвенго»?
— Фильм предложила дирекция фестиваля. Я рада, что смогла приехать и представить его зрителям. Накануне вернулась из Ростова-на-Дону, где у меня мастерская в филиале ВГИКа. Я туда как раз в июне-июле уезжаю принимать экзамены, посмотреть другие курсы, сходить в театр. Я это люблю. Во Пскове я впервые, увидела кремль, съездила на экскурсию. Очень красивый город. Я редко бываю на фестивалях. Что мне там представлять? Фильмов-то новых нет, где у меня большие роли. Мне есть чем заняться.
Я снялась в полном метре у Ольги Беляевой «Каждый мечтает о собаке», который тоже представили во Пскове. У меня там небольшая роль. И недавно вновь работала у Ольги в «Кукольном доме». Там тоже небольшая роль.
— А сами бы вы какой фильм выбрали в качестве своей визитной карточки?
— «Айвенго» бы и выбрала. Хорошее романтическое и красивое кино с прекрасными песнями. Теперь такое кино не снимают.
— Да сейчас даже не все знают, кто такой Вальтер Скотт.
— Это правда. Раньше и сроки были совершенно другие. Не знаю, есть ли сейчас в кино подготовительный период, на который нужны деньги и время. Все делается быстро, на бегу.
— Для «Айвенго» строились декорации?
— Мы снимали в Ужгороде, где сохранились старинные замки, были поля, хорошо ложившиеся на песню «Я поля влюбленным расстелю». А интерьерные съемки проходили на «Мосфильме».
— Вы учились в мастерской Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой, воспитавших немало хороших актеров. Об этом не часто вспоминают, больше говорят о студентах Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
— Возможно, потому, что Сергей Федорович меньше фильмов снимал во время своего достаточно короткого периода преподавания. У него было всего два или три курса, один — национальный. Со мной учились Володя Басов-младший, Ия Нинидзе, Валентин Ганев, ставший едва ли не главным артистом в Болгарии. Были ребята из разных республик.
В «Красных колоколах» у Сергея Федоровича снимались студенты, но не в главных ролях. Сергей Аполлинариевич больше задействовал своих учеников в главных ролях. Вспомним «Журналиста», «Красное и черное», где снимались его ученики Николай Еременко, Наталия Белохвостикова. Думаю, только в этом причина. Студенты Герасимова были на виду.
— Мотивация ребят, поступающих во ВГИК сегодня, сильно отличается от той, что была у вас?
— Мне кажется, что нет. Когда ты молод, то идешь напролом, вслепую, ничего не боишься. У тебя есть мечта поступить во ВГИК, и ты к ней стремишься без страха. Только потом он возникает и связан с тем, что вдруг окажешься невостребованным в профессии. С годами он усиливается, когда появляются дети, семья, беспокойство за них. А когда ты молод, никакого страха нет.
— Вам было важно, к кому поступать?
— Мне было 19 лет. Я уже полтора года проучилась в Воронежском технологическом институте пищевой промышленности. Я именно к Сергею Федоровичу поступала, хотя параллельно сдавала экзамены в Щукинское театральное училище, даже прошла там какие-то туры. У меня было предчувствие, что я их человек, Бондарчука и Скобцевой. Я это почувствовала очень сильно. Тогда был очень большой конкурс на актерском факультете. Сергей Федорович взял поначалу только девять человек, потом уже нас стало двенадцать. Позднее откуда-то приехали ребята, и он добрал мастерскую.
Запомнила колышущееся море голов, всеобщее волнение, передавшееся мне тоже: поступлю — не поступлю. Помню, как переговаривались Ирина Константиновна, сказавшая про меня: «Какая хорошенькая! Какой у нее носик, зубки!», и Сергей Федорович, ответивший ей: «Да, наверное, ее будут снимать в кино». Он спросил, откуда я. Ответила, что из Воронежа. «Мы там «Судьбу человека» снимали», — сказал он. Действие у Шолохова происходит в Воронеже.
— И теперь ребята приезжают из разных городов? Бытует же мнение, что сегодня Шукшин не поступил бы во ВГИК, поскольку далеко добираться и жизнь в Москве дорогая. В сапогах не приедешь. На лавке во дворе института уже не поспишь.
— Есть бюджетные места, и ребята приезжают поступать из провинции. Я работаю с Александром Яковлевичем Михайловым. Он отбирает только тех, в ком что-то видит, и хочет, чтобы именно они учились у него.
— Вы и дипломные спектакли ставите?
— Я поставила три спектакля. «Дорогая Елена Сергеевна» по пьесе Разумовской пришлась на пандемию, так что не смогли ее даже записать для истории. На курсе, который выпускался в прошлом году, я поставила «С любимыми не расставайтесь» по Володину. У Сергея Витальевича Безрукова сейчас третий курс, и я там работаю педагогом по актерскому мастерству. Сделала с ребятами дипломный спектакль «Сон Бальзаминова», привлекла режиссеров мультимедиа, которые творят чудеса. Мне хотелось через сны на экране передать все всполохи и всплески, происходящие в душе героев. Это не совсем то, что я видела в МХТ и МТЮЗе, других театрах, где часто параллельно действию на сцене идет его трансляция на экране. Мне важно ощущать живую энергию стоящих на сцене актеров.
— А как же собственная актерская карьера? Неужели достаточно преподавательской деятельности?
— Мне — да. У меня же есть еще свой курс в Ростове-на-Дону. Он очный и требует внимания. Учить актеров дистанционно невозможно, хотя во время пандемии мы занимались онлайн, и какой-то корень в такой форме преподавания я нашла. Инструменты актера — голос, тело, эмоции, передающиеся через глаза. Для меня главное в актере — глаза.
Церемонию открытия на фестивале вела Карина Разумовская. Я обратила на нее внимание в сериале «Трасса» и была ошеломлена ее дарованием. У нас такого уровня актрис нет. Она — выдающаяся актриса голливудского уровня. Как она все это делает на экране? Для меня в актере важна способность передать свои эмоции, когда он молчит. Это дано не многим. Так умели молчать Смоктуновский и Джигарханян. Сергей Федорович в свое время рассказывал, как смотрел в Лондоне «Гамлета» с Лоренсом Оливье. Он выходил на авансцену и около десяти минут молчал. А зал не мог оторвать от него глаз. Настолько сильной была самоотдача. Научить этому невозможно. Это от Бога.
— Раньше студентов ВГИКа не ориентировали на театр, а сейчас их охотно берут в самые прославленные театры. Изменилась жизнь или система подготовки?
— Все изменилось. Сейчас готовят универсального артиста. Много времени отводится танцу, движению, вокалу. Тех, кто не поет, обучают. Драматический артист и не должен хорошо петь. Он может это делать по-актерски, от души, как умеет Александр Михайлов. Он про себя говорит: «Я самоучка». А поет так, что его песни завораживают. Сейчас актерская школа во ВГИКе не хуже, если не лучше, чем во многих театральных вузах.
— Почему вы сами не пошли в театр?
— Меня прямо из института пригласили сниматься, и я без простоев, за исключением 90-х, когда почти ничего не производилось, все время работала. Трудно приходить в театр и утверждаться, когда ты востребован в кино и вкусил дух свободы. Если бы появился режиссер, заинтересованный во мне, то, возможно, все бы сложилось иначе. Свою роль в какой-то степени сыграла по молодости и моя внешность. Меня не воспринимали всерьез с моей красивой слащавостью.
— Да не было никакой слащавости, зато был взгляд с поволокой, который сложно описать.
— Когда я училась во ВГИКе, у Владимира Наумова был режиссерский курс. И я у его ребят много играла в отрывках. Однажды он сказал: «Какие у нее глаза!» Я это запомнила. Кто-то разглядел, кто-то нет — это судьба. Кому как повезет. Мне кажется, что не очень доверяли моей внешности.
— А вы могли сыграть что-то более глубокое?
— Да. То, что я сейчас делаю со студентами. Мне интересно с ними, нравится учить, ставить спектакли. Если делаешь что-то, то в первую очередь сам должен понимать, ради чего.
— У вас такое прекрасное, естественное лицо, которого лишены многие актрисы из-за погони за вечной молодостью. На вас должен быть большой спрос.
— То, что предлагают, — роли мам, бабушек, мне не очень нравится. Если интересная роль с историей, то с удовольствием ее играю. Я не заморачиваюсь проблемами старения, может оттого, что в свое время, когда были молодость и красота, я не нуждалась в самоутверждении. Я в соцсетях не очень участвую, но иногда читаю: «Акулова, ты чего такая страшная?»
— Какой-нибудь анонимный «доброжелатель»?
— И хорошо, что пишет. Мне это даже нравится. Когда коллега говорит, что не узнала меня в сериале, только радуюсь. Красивых я наигралась. Мне интересно попробовать что-то другое. В свою возрастную категорию я вошла с удовольствием.
— В Пскове же вас спрашивали: «Это вы снимались в «Экипаже»?» Даже парочка кинематографистов со стажем задала такой вопрос за вашей спиной.
— Мне еще в молодости надоели подобные вопросы, и я стала отвечать на них: «Да. Это я». Мы действительно с Сашей Яковлевой были похожи, но как-то разошлись на кинонебосклоне. Она свои роли играла, я — свои. Тип у нас один. Мне кажется, что в более позднем возрасте мы перестали с ней быть похожи.
— Какие годы кажутся вам самыми благотворными?
— Молодость, конечно, и конец 90-х. «Наследниц» мы сняли в 2001 году. С этого момента пошли и другие фильмы. Я снялась в сериале «М.У.Р. Третий фронт» Эльёра Ишмухамедова. Посмотрите, если не видели. Там Миша Ефремов снимался в главной роли. Он потрясающий артист, и я с удовольствием с ним работала, поразилась его образованности, начитанности. Он столько стихов знал! У меня там роль Лидии Захаровны Беловой, потерявшей ребенка и мужа, сотрудницы МУРа.
— Фильм снимал ваш муж, прекрасный режиссер, которого полюбили еще по фильмам «Нежность» и «Влюбленные». Вы ведь познакомились на Ташкентском кинофестивале?
— Да, мы с Эльёром Мухитдиновичем познакомились в Ташкенте и почти сорок лет вместе.
— Чем он занимается?
— В основном педагогической деятельностью. В Ташкенте тоже есть филиал ВГИКа, где они с замечательным сценаристом Одельшей Агишевым совместно работают на сценарном факультете и очень серьезно к этому относятся. Недавно прошла первая защита дипломов. Как и в актерской профессии, в сценарном деле можно объяснить, что сыграть. А вот как это сделать — серьезный вопрос. Одельша Агишев знает на него ответ.
— Ваша дочь Анна Шерлинг тоже стала актрисой, а сын Дмитрий выбрал совсем другой путь?
— Дочь сначала окончила МГИМО, потом ГИТИС, где училась у Виктора Ракова. Она снималась, с Юлией Пересильд создавала спектакль «Стиховаренье», но у Ани четверо детей, которые требуют внимания.
Сын стал врачом-психиатром, шел к этому долго. Он окончил школу в 16 лет и сразу не мог сообразить, что ему выбрать. Тогда все шли в юридический, и он туда пошел. У сына три высших образования. Он окончил Московский юридический университет им. Кутафина, потом факультет клинической психологии МГУ и Московский медико-стоматологический университет им. Евдокимова, стажировался в Научном центре социальной и судебной психиатрии им. Сербского. Он занимается научной работой, ведет видеоблог, и у него это неплохо получается. Все говорят, что это интересно. Мой сын разбирает через призму психиатрии фильмы и болезни. Сейчас особенно много пограничных состояний, поскольку время тревожное и люди стали тревожными, непредсказуемыми. Мне кажется, сын занимается своим делом.
Я тоже люблю учиться. Столько книг прочла по театральной педагогике! Это очень помогает. Педагогика и работа актрисы — совершенно разные вещи. Если хотите чего-то достичь, то ставьте планку выше. Понятно, что уровня Петра Фоменко не достичь, но надо хотя бы к этому стремиться.












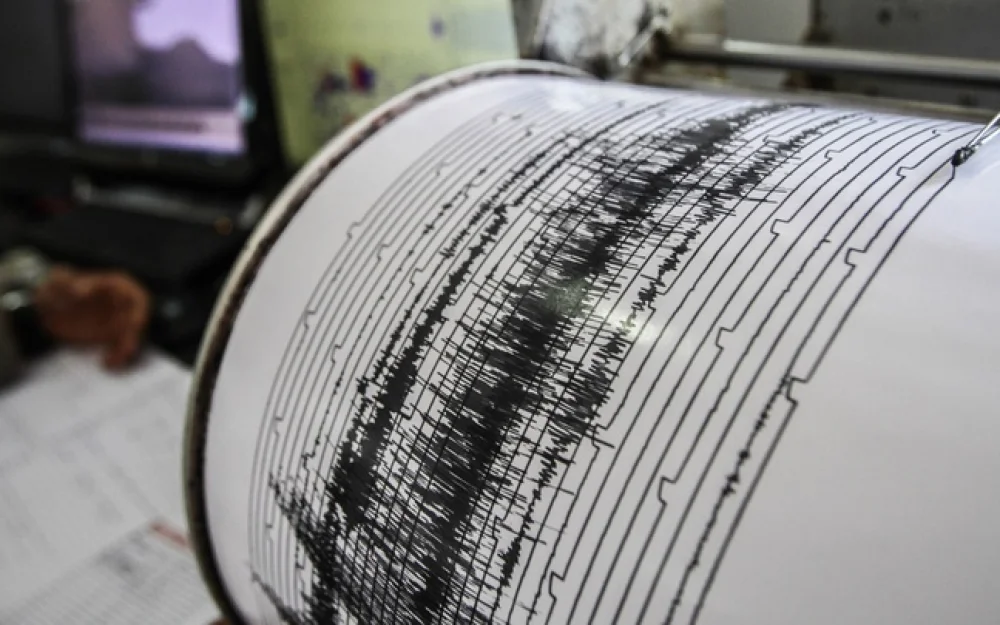

Написать комментарий