- Общество
- A
Надо ли бояться переписывания истории: несколько советов юноше, обдумывающему житье
Тысячи страниц потрачены и сотни копий сломаны во имя отстаивания тезиса о недопустимости переписывания истории. Казалось бы, все очевидно. Как иначе сохранить культурное наследие, избежать фальсификаций и спекулятивных подтасовок? Однако не все так просто.
История на самом деле постоянно переписывается, поскольку выявляются новые факты, документы, археологи делают новые открытия, в том числе касающиеся самых древних времен. Все это, вместе взятое, меняет наше представление о ходе мировой истории. Так, в XIX веке самым существенным образом повлияло на понимание истории нахождение «Слова о полку Игореве», а в веке нынешнем — открытие Алтайской цивилизации, прародины тюрков, научная конференция по этой проблеме состоялась в октябре 2024 года в Республике Алтай. Таким образом, вето на переписывание истории означает запрет на развитие исторической науки и тем самым противоречит сохранению и преумножению исторического наследия.
Но у каждой медали есть две стороны. Это касается и переписывания истории. Речь идет о мысли, которую предельно ясно выразил английский историк Пол Томсон: «Для политиков прошлое — рудник для добычи символов в собственную поддержку». Именно с этой спекулятивной стороной использования истории и надо бороться. Но и здесь не все так просто. Ибо такой утилитарный подход к истории характерен для всех политических элит во всех странах без исключения. Не избежали его и мы.
В 2008 году режиссер Андрей Кравчук выпустил в целом тепло встреченный блокбастер «Адмиралъ» — фильм об Александре Колчаке. Открывается фильм впечатляющими кадрами морского сражения Первой мировой под командованием бесстрашного капитана Колчака, а заканчивается расстрелом адмирала Колчака большевиками в Иркутске в 1920 году. В промежутке герои возносят молитвы, целуют кресты и щеголяют в стильной форме. Тем временем безликие красные убивают почти безликих белых, а у Колчака происходит бурный роман с Анной Тимирёвой, женой его сослуживца, который впоследствии переходит на сторону красных, тем самым оправдав измену жены (насколько мне известно, сюжетная линия о сослуживце, контр-адмирале Сергее Тимирёве, не соответствует историческим фактам).
Фильм изобилует голливудской эстетикой, шаблонными сюжетными поворотами и обаятельными дорогостоящими «звездами» в главных ролях. Но, как писала критика, «это все миражи», призванные привлечь внимание капризной молодежи к исторической картине с серьезной моралью, которую хорошо бы усвоить всем: «Любой, даже плохой, порядок в России лучше, чем его разрушение».
Бессмысленный хаос революции вызван жалкой плебейской толпой, которую зрители должны презирать. Колчак, благородный, скромный, имеющий лишь один мундир, играющий на рояле, воюет с красными не из-за идеологии. Враги — безликая биомасса, которая расстреливает и топит своих командиров. Эта биомасса выиграла гражданскую войну, но мы можем и должны восстановить справедливость. Налицо консервативный посыл, призванный объяснить сегодняшним гражданам, что они должны подчиняться тем, кто лучше нас, кто аристократ. Отсюда вывод — современный российский новый капитализм легитимен, как и предшествующая досоветская власть. Следовательно, религиозно-моральная вертикаль в постсоветском государстве восстановлена. Чего же еще желать? Но чем тогда это отличается от печально известного «Думать неча, если думают вожди» (стихотворение «Служака» В.В.Маяковского).
Особенно нездоровым этот поворот в оценках на сто восемьдесят градусов выглядит при переоценке личностей, во многом изменивших ход истории в нашей стране.
«Юноше, обдумывающему житье, решающему — делать бы жизнь с кого, скажу не задумываясь: делай ее с товарища Дзержинского…» — В.В.Маяковский.
Еще не так давно Феликс Дзержинский олицетворял собой икону революции. Железный Феликс, руководитель ВЧК, друг беспризорных, как пелось в известной песне — «чистые руки, горячее сердце, холодная голова». Сегодня он превратился в кровавого монстра, олицетворяющего красный террор, бессудные расправы пьяной матросни над классовыми врагами только на основе их принадлежности к чуждым элементам. Весь этот кошмар описал в «Окаянных днях» Бунин. Зная дальнейшее развитие этой организации в тридцатые годы и позже, понять метаморфозу в отношении ее основателя можно.
Примечательно, что с такой оценкой солидаризируются люди противоположных взглядов: православные фундаменталисты и либеральные западники, шовинисты и космополиты. Массовая культура, в первую очередь в лице кинематографа, мгновенно угадывает эти сигналы и отвечает на них, тем паче, что такая работа щедро финансируется.
Фигура Дзержинского настолько характерна, что на его жизни и судьбе стоит остановиться подробнее. Натура поэтическая, что видно из его письма сестре, написанного из Седлецкой тюрьмы в 1910 году: «Дорогая Альдона! Далеко друг от друга разошлись наши пути, но память о дорогих и еще невинных днях моего детства, память о матери нашей — все это невольно толкало и толкает меня не рвать нити, соединяющей нас, как бы она тонка ни была. Поэтому не сердись на меня за мои убеждения, в них нет места для ненависти к людям. Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня... люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь. Помни, что в душе таких людей, как я, есть святая искра… которая дает счастье даже на костре».
Глубоко религиозный юноша, он собирался стать ксендзом. Писал стихи на польском языке. Но роковой случай поменял его жизненные планы.
«Когда-то судьбу четырнадцатилетнего гимназиста Феликса, с самого детства собиравшегося стать ксендзом, неизменно имевшего высшую оценку по Закону Божию, тоже изменила трагедия. Чужая, но близко принятая юношеским сердцем. В литовском местечке Крожи власти сначала закрыли женский монастырь бенедиктинок. А затем под видом ветхости захотели ликвидировать и единственный католический храм. В ответ прихожане установили круглосуточное дежурство, чуть что звоня во все колокола. Первая попытка штурма, предпринятая жандармами во главе с губернатором Клингенбергом, оказалась неудачной. Тогда в дело вступил карательный казачий отряд. Одну из прихожанок зарубили саблей прямо на алтаре. Несколько человек утопили в реке. Всего были убиты девять человек, около полусотни ранены. Других губернатор отправил на каторгу.
И что в таком случае, даже будучи ксендзом, мог бы поделать пан Дзержинский? Как смог бы защитить свою паству? Только оплакивать и молиться? Обещать, что все это воздастся мучителям в другой жизни? А в этой? Нет, за верой должно следовать дело! Эта простая мысль многое изменила в его жизненных приоритетах, отношении к окружающему, в выборе книг, друзей».
Примечательно, что и Сталин первоначально мечтал о религиозной карьере и писал хорошие стихи на грузинском языке. Они с Дзержинским одного года рождения. Оба много читали, оба много курили. Как из романтиков вырастают Робеспьеры, готовые во имя светлого будущего принести любые жертвы? Они аскетичны, лично им никаких благ не требуется, но все остальные должны безоговорочно принять их точку зрения. Ведь речь идет об окончательной победе добра над злом, в результате которой установится рай на земле. Так христианство подменяется квазирелигией. Квазирелигия — это коллективные представления и действия, имеющие подобие религии.
Но вернемся к Дзержинскому, которого ждал еще один удар судьбы. Он влюбился в женщину, близкую ему по духу, — революционерку. А его полюбила ее родная сестра, которая находилась в тюрьме. По выходе из заключения она покончила с собой, дабы не мешать счастью старшей сестры. Старшая сестра, считая себя виноватой в гибели младшей, порвала все отношения с Дзержинским. Такие повороты судьбы выковывают совершенно определенный железный характер, требующий вырвать из души все личное, готовность идти на костер, но того же требовать от других.
Один из журналистов не очень тактично, что, в принципе, вполне предполагает это ремесло, спросил временно отстраненного Дзержинского: «Не допускаете ли вы, что ЧК может ошибаться и совершать акты несправедливости по отношению к отдельным лицам?»
Уж кто, как не Феликс, мог привести немало таких случаев, а документы и освобожденные лично им люди могли бы это подтвердить. Он только что был с регулярной ревизией в Бутырке, где распорядился освободить двух молодых людей, бывшего гардемарина и гимназиста, под обещание не выступать впредь против советской власти. Но говорить о своих заслугах, о предотвращенной несправедливости совершенно не в его характере, а о непредотвращенной — значило дискредитировать такими трудами созданную и подтвердившую свою эффективность организацию. И потому ответил так: «ЧК не суд. ЧК — защита революции, как Красная армия, и как Красная армия в гражданской войне не может считаться с тем, принесет ли она ущерб частным лицам, а должна заботиться только об одном — о победе революции над буржуазией, так и ЧК должна защищать революцию и побеждать врага, даже если меч ее при этом попадает случайно на головы невинных».
Ответил честно, убежденно, никак не отрицая возможных трагических ошибок. Далеко не каждый руководитель аналогичной структуры при любом государственном строе способен на такое признание. Спасение революции в условиях жестокого внешнего и внутреннего противостояния действительно было для Дзержинского высшим и непреложным законом.
Муза истории — девушка капризная. Иногда всего одна буква способна изменить наши представления о ее злоключениях. Тонкие историки литературы, разбирая черновики Л.Н.Толстого, заметили, что по замыслу писателя герой романа «Анна Каренина» должен был носить фамилию не Левин, а Ленин. Представим себе, что было бы, если бы Левин остался Лениным. Очевидно, что вождь большевиков Владимир Ульянов не взял бы себе такую партийную кличку. Это было бы просто смешно ввиду невероятной популярности романа Толстого. И тогда не было бы Владимира Ильича Ленина, марксизма-ленинизма и города Ленинграда.
Вывод очевиден: не будем сбивать с толку юношей, обдумывающих житье, и вводить в стресс стариков своими размашистыми конъюнктурными переоценками.










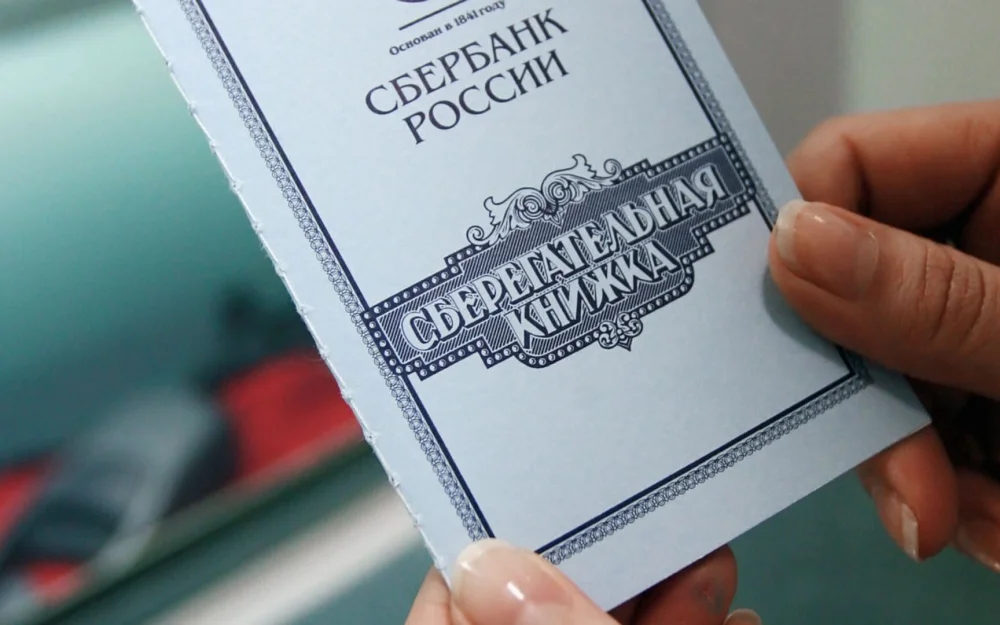

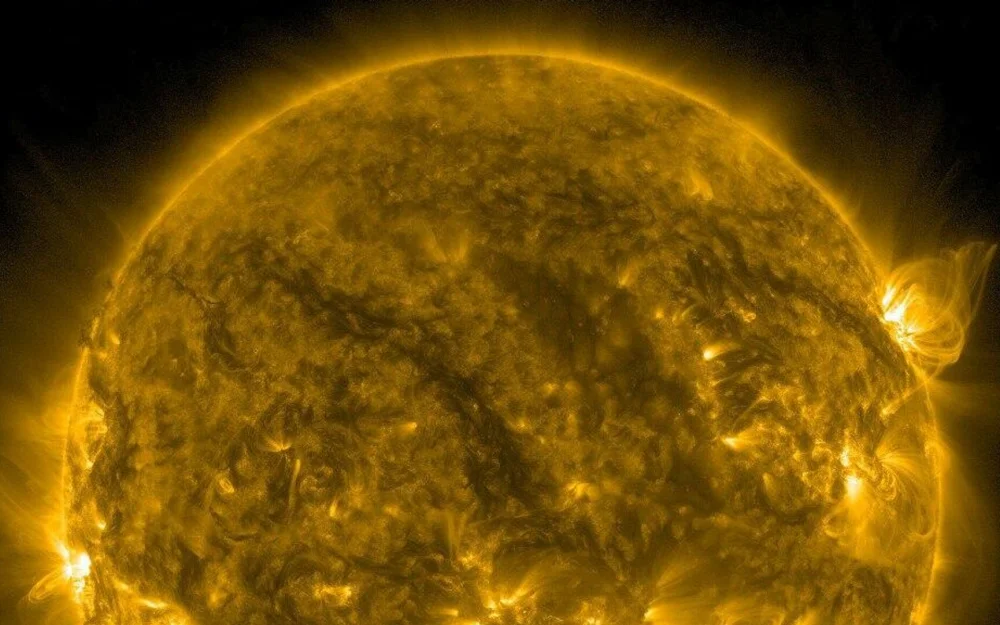

Написать комментарий