- Культура
- A
Бесстрастные страсти Курентзиса
На сцене театра «Новая опера» состоялась московская премьера оперы «Страсть» современного французского композитора Паскаля Дюсапена. Впервые в России она прозвучала в прошлом году на Дягилевском фестивале. Теперь этот фестивальный продукт увидели и услышали москвичи в исполнении оркестра musicAeterna с Теодором Курентзисом за дирижерским пультом.
Фестивальный продукт — тема особая. Вроде бы нигде такой закон официально не писан, однако все понимают: то, что делается для, по заказу или с расчетом на фестиваль, отличается от обычной продукции. Опера «Страсть» Паскаля Дюсапена — яркий образец фестивального формата: спектакль неординарный, сложный, у кого-то он вызовет восторг, у кого-то иронию или отторжение. Одни увидят в нем истинную глубину и поиск сакральных смыслов, другие — претензию на глубокомыслие. И, как всегда, когда мы имеем дело с искусством «авангардным» и «элитарным», лучше судить о нем по его законам.
В центре сюжета, если вообще здесь уместно говорить о сюжете, ибо никакого нарратива в таком произведении нет и быть не может, две абстрактные фигуры — Он и Она. Поскольку либретто итальянское, правильнее назвать их Lui и Lei. Они ведут диалог, который сопровождается комментарием вокального ансамбля, обозначенного как Другие (Gli Altri). В основе истории (хотя и это понятие вряд ли здесь применимо) — миф об Орфее и Эвридике. Автор трактует этот миф по-своему: он полагает, что Орфей сознательно обрекает Эвридику на смерть. А потом и сам следует за ней. Зачем бы ему это? Ответ на поверхности: Орфей, как истинный художник, нуждается в страданиях, дающих ему мотивацию для творчества.
Дюсапен играет в интертекстуальную игру, создавая музыкальный палимпсест на основе музыки Монтеверди, Пери и других первопроходцев жанра оперы. При этом понятно, что его стиль весьма далек от барокко. Здесь мы имеем дело с типичным музыкальным языком «авангардиста» (в кавычках — потому что такому авангарду уже лет за 100). Атональность, доминирование диссонансов в гармонии, преобладание скачков на острые интервалы и обилие секундовых интонаций в мелодии (это понятие тоже следует употреблять с оговорками) — вполне надежный набор средств музыкального языка, при помощи которого оптимально достигается эффект деструкции, фрустрации и прочих признаков депрессивного состояния.

Поскольку спектакль показан в рамках проекта Музей в опере/Опера в музее — а именно этот проект Новой оперы и объединяет площадку со спектаклем, — добавлен еще и некий внешний контекст: в фойе демонстрируются оригинальные артефакты на основе известных шедевров живописи, в которых противопоставляется женское и мужское начало. Концепция авторов раскрывает тему женской боли как главного «пассиона», волнующего автора-мужчину. И здесь, как и в партитуре, также применен принцип интертекстуальности: знакомые живописные сюжеты предстают в постмодернистских версиях.
Режиссер Анна Гусева и художник Юлия Орлова построили многослойное пространство: в расположенных наверху двух гигантских аквариумах демонстрируется реальный земной быт. Впрочем, не такой уж и реальный. Вот, казалось бы, веселая свадьба, но на ней вдруг появляется рогатый человек. Вот тоскующая женщина, раздраженно отталкивающая собственного ребенка и сующая голову в газовую духовку. Вот писатель, дающий автографы своим поклонникам с одинаковыми не вполне человеческими лицами. Вот женщина с чемоданом в руках в бесконечном беге. А вот и вовсе эпизод на грани: дети на празднике показывают «живые картины». Благодаря специальной системе зеркал на самом верхнем уровне мы видим, как их наряжают. А затем они появляются перед импровизированной занавеской-простыней. Только вот что это за образы? Мальчик, пронзенный стрелами, как св. Себастьян, девочка с отрубленной головой в руках — как Саломея...

Присутствуют в аквариумах и другие миры: люди в белом, безуспешно пытающиеся разбить стекло. Люди в черном, карабкающиеся по прямоугольным плитам. Все это решено в жанре перформанса и исполнено пластичными танцорами труппы musicAeterna Dance (хореограф Анастасия Пешкова). Сценки включаются и выключаются в определенном ритмическом режиме. Таким образом, при отсутствии нарратива все же возникает некий эффект развития или, вернее, как это характерно для музыки барокко, развертывания. Тем более что разделы действа «отбиваются» интермедиями солирующего клавесина.
Одетый в черное нижний уровень сцены — это территория, где страдают Он и Она. Их диалог — бессвязный комментарий к собственной агонии. Солистам Иветте Симонян и Сергею Гордину удается не только самим погрузиться в мучительность процесса перехода от жизни к смерти, но и затащить аудиторию в эту жесткую ситуацию. И, конечно, важнейшую роль в этом «затаскивании» играет оркестр под управлением Теодора Курентзиса.

Впрочем, здесь кроется ключевой аспект, который позволяет зрителям рассматривать действо как нечто, не имеющее к ним отношения: абсолютно бесстрастная атмосфера. Вот такой оксюморон: бесстрастная «Страсть». И это вовсе не недостаток, не упрек и не критика. Наоборот: и Дюсапен, и Курентзис, и артисты принципиально рассказывают о «пассионах» без человеческой душевности или эмоциональности. Своего рода «остранение» (по Шкловскому), дающее возможность анализировать, исследовать, погружаться в тему боли и смерти объективно. Здесь не место сентиментальности, эмпатии, сопереживанию. Что роднит «Страсть» с актом шаманизма или камланием, а возможно, со сложной хирургической операцией или научным экспериментом.
Поэтому финальный огонь, поглощающий героев, не зря трепещет холодным отражением в зеркале. Да, это катастрофа. Но она происходит не с нами. Мы лишь изучаем ее со стороны.











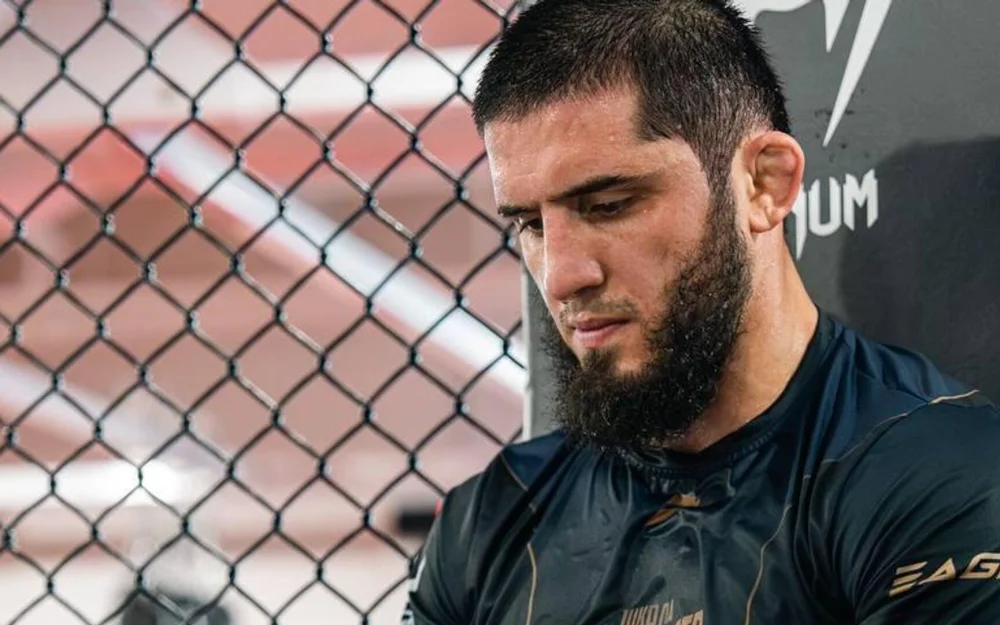


Написать комментарий