- Культура
- A
В Москве показали «литературные миры Бориса Мессерера»
Встреча с художником в стенах его мастерской – идеальный формат непосредственного приобщения к искусству, когда видишь творческий процесс, а не «трупы красоты», которыми, как писал Бердяев, заполнены музеи. Но в новом проекте ГМИРЛИ им. В.И. Даля пытается найти некий компромисс, одновременно представляя произведения народного художника РФ Бориса Мессерера и перемещая в музей пространство, где они создавались.
При этом «Литературные миры Бориса Мессерера», получились, естественно, литературоцентричными. Ключевой образ – Белла Ахмадулина (Мессерер был четвертым мужем поэтессы). «Беллу в Тарусе» мы видим на портрете кисти Бориса Асафовича, слышим ее голос в цитатах, размещенных на стенах Дома Ильи Остроухова в Трубниках, а также читая подлинники автографов стихотворений. Через Беллу происходит переход к живописи Мессерера еще и потому, что
День-деньской,
ночь напролет я влюблена была —
в кого? во что?
В тот дом на Поварской,
в пространство, что зовется мастерской
художника.
В первом выставочном зале мастерская дана не пунктиром и не намеком: посетителям показывают многочисленные предметы оттуда (включая керамическую посуду, самовары и старинные утюги) плюс стол с кисточками и тюбиками/баночками краски. (Это помимо множества архивных фотографий).

Как признается сам Мессерер, пыльные пишущие машинки или керосинки он превращает в эскизы, а затем переносит на картины или в инсталляции. Так что мы оказываемся не в лавке старьевщика, а знакомимся с вещами, служившими источниками вдохновения и прототипами. (Например, «Композиции со стульями, граммофоном, гладильной доской и керосиновой лампой» конца 70-х)
Окей, в атмосферу погрузились. Делаем следующий шаг.
Мессерер-художник – это два мира, потому что есть ранний этап творчества, заполненный работой над театральными декорациями, эскизами балетных костюмов и книжных иллюстраций, связанных с театром и музыкой. Скажем, Мессерер является автором обложки «Киноповестей» Шукшина, ряда книг классика драматургии Виктора Розова, узнаваемых ценителями иллюстраций к книге Д.П. Каллистова «Античный театр». Но ярчайший экспонат здесь – стереоскопический макет художественного оформления театральной постановки «Школа жен» 2014 года, «игрушечный» театр с деревянными лесенками на сцене.

Еще о двух залах выставки можно написать отдельные заметки. Первый из них - «петербургский» зал с «Посвящениями» Блоку, Гумилеву, Мандельштаму, Набокову, Ахматовой, Бродскому и всему величественному городу на Неве. В случае с поэтами-классиками Мессерер использовал сложную технику, когда портрет кажется нанесенным поверх стекла рамки картины, на которой нарисованы питерские места. То есть возникает эффект стоящего перед зрителями актера, за спиной которого находятся декорации.
Рассказ о Мессерере и Грузии («нежной родине чужой» по определению Ахмадулиной) вылился в отдельную главу/зал.

Где есть и глиняная народная грузинская посуда, и живопись с грузинским акцентом (цикл «Сванетия», например), иллюстрации к роману Амирэджиби «Дата Туташхиа», переводы поэзии Галактиона Табидзе, выполненные Беллой Ахатовной. Наконец, обширный автограф ее стихотворения памяти Симона Чиковани (грузинского советского поэта) и черновик рукописи стихотворения «Я и ночь и Галактион». И в качестве бонуса - созданная Мессерером обложка поэтического сборника Ахмадуллиной «Сны о Грузии»
Выставку стоит пройти не один, а несколько раз, разглядев мельчайшие детали, вчитавшись в текстовую составляющую. Чтобы узнать, что легендарный Виктор Ерофеев говорил:
Москве в 1970-е-1980-е годы было два знаковых места – Кремль и мастерская Мессерера. Для меня даже можно сказать так: была мастерская, а потом был Кремль? Почему эти вещи были знаковые? Кремль – понятно, это был оплот мирового коммунизма. А мессерерский чердак был оплотом мировой богемы…










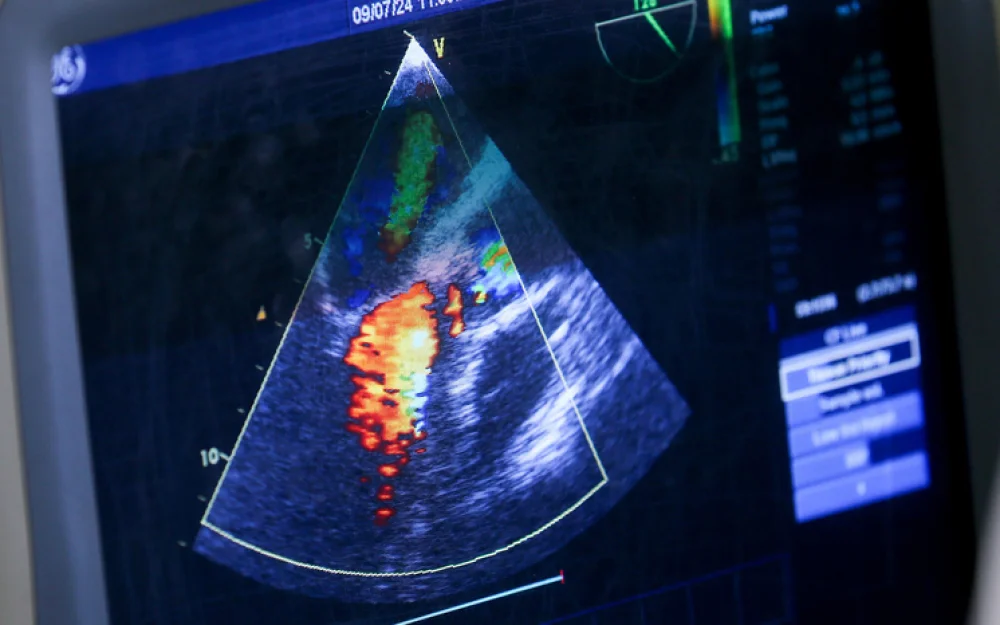



Написать комментарий